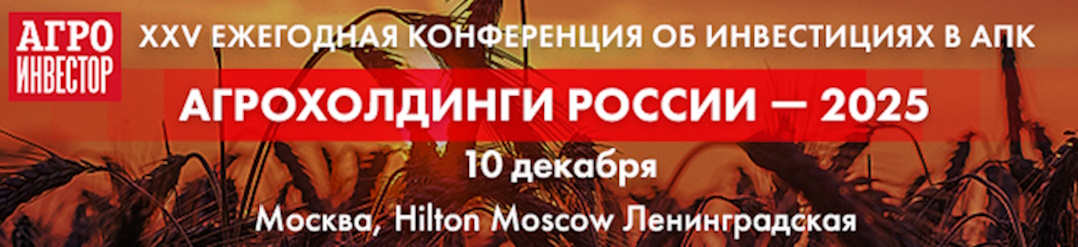|

В.С. Бирюков: "Свинина и курятина к азиатскому столу"
На страницах федерального выпуска «Российской газеты» от 4 марта 2011 года выступил научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Его статья многозначительно озаглавлена «Русский хлеб к европейскому столу» и посвящена пресловутой диверсификации сырьевой российской экономики. Во многом с автором нужно согласиться – но не во всем.
«Что наша экономика может предложить сначала в дополнение, а потом и взамен нефти и газа? – задается почти гамлетовским вопросом Евгений Григорьевич и предлагает ответ: – Наши сельхозпродукты, прежде всего зерно, вполне могут стать альтернативой нефти и газу... Я вижу ситуацию, когда Россия будет экспортировать не 20 (как до засухи 2010 года. – В.Б.), а 100 млн т зерна».
Странный вывод для признанного авторитета экономической мысли! Зерно – сырьевой продукт с невысокой добавленной стоимостью. Вывоз его за границу напоминает торговлю сырой нефтью, практически это тот же самый сырьевой экспорт. И точно так, как мы импортируем продукты глубокой переработки нефти (например, изделия из искусственной шерсти и пластмасс), к нам «возвращаются» из-за рубежа продукты высокого передела зерна – сухое молоко, сыры, яичные порошки, мясо и мясопродукты.
Зачем же экспортировать зерно и таким образом дополнительно к «углеводородной игле» обзаводиться «иглой пшеничной»? Не рациональнее ли откармливать скот и птицу у себя дома? Должно быть, и школьнику ясно, что чем больше мы производим мяса, тем больше используем зерна – основы комбикормов. И экспортировать вместо относительно дешевого зерна следует более дорогое мясо. Крупнейшие в мире импортеры еды под боком – Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, где проживает добрая половина землян.
Конечно, большинству из них еще далеко до процветания «золотого миллиарда», однако жизнь на протяжении двух последних десятилетий устойчивого экономического роста становится все сытнее. Причем китайцы, индийцы, вьетнамцы, филиппинцы не просто больше едят, но коренным образом меняют рацион: после строгой рисовой диеты они все чаще предпочитают молочные и мясные продукты.
Здесь, кстати, кроется и основная причина мирового продовольственного кризиса. Он начался в 2007 году, в 2008-м укрылся в тени глобального финансового кризиса, а в 2010-м забушевал с новой силой, подгоняемый засухами и наводнениями в разных частях света. Как справедливо отмечает Евгений Ясин, «экономический подъем самых многонаселенных развивающихся стран влечет за собой рост доходов их граждан, а, значит, резкое повышение спроса на продовольствие».
Именно следствием «пищевой инфляции» стал панарабский бунт, на что также верно указывает Е.Г. Ясин: «События на Ближнем Востоке в значительной степени связаны с продовольственным кризисом». А профессор Колумбийского университета Диксон Деспоммье уже прикинул, что при нынешних темпах роста сельскохозяйственного производства к 2060 году перед лицом голодной смерти окажутся порядка 3 млрд человек. Угроза классическая – в точности по его преподобию Томасу Роберту Мальтусу (1766–1834).
Основа основ человеческого существования– сельхозугодья. Но дополнительной земли на Земле нет: 80% угодий, пригодных под зерновые, уже задействованы, из них 15% испорчены «химией» (удобрения, инсектициды, гербициды). Если в 1960 году 1 га пашни приходился на двоих землян, то в 2002-м их стало пятеро. Ожидается, что в 2015 году с 1 га должны будут прокормиться уже шесть человек.
«В мире всего несколько стран, у которых есть излишки земельных угодий, пригодных для выращивания важнейших продовольственных культур, прежде всего зерновых, – констатирует профессор Ясин. – В первую очередь это Россия».
Действительно, у нас 9% всех сельхозугодий планеты, а наш вклад во всемирную продукцию агросектора пока менее 2%. Здесь сокрыт колоссальный потенциал, и самое главное, что мы его уже начинаем использовать.
Е.Г. Ясин предлагает «решить, как все-таки проводить модернизацию», но автор этих строк хотел бы подчеркнуть: модернизация – отнюдь не то, что вдруг начинается во всем народном хозяйстве, словно по выстрелу стартового пистолета. И заблуждением было бы считать, что в России идут одни разговоры о модернизации. На самом деле она успешно ведется в агропромышленном комплексе, начиная примерно с 2006 года, когда реально заработал национальный проект «Развитие АПК».
Например, несколько лет назад в обработке 10 тыс. га пашни были задействованы 150–200 человек, а теперь хватает и 15 человек. Суточные привесы поросят на индустриальном откорме уже достигли уровня Дании, то есть 800–900 грамм, тогда как на личных подворьях они втрое ниже. Или возьмем конверсию корма – его расход на производство 1 кг мяса. Датчане на 1 кг свинины затрачивают 2,8 кг кормов. Средняя конверсия на новых предприятиях России составляет 3,0 кг, на модернизированных предприятиях – 3,6 кг. Аналогичная ситуация и в промышленном птицеводстве.
«Для нас освоение достижений других сейчас более выгодно, более выполнимо, чем создание высококачественных инноваций для рынка, – абсолютно верно рассуждает Е.Г. Ясин. – Убежден, мы сейчас должны активно закупать оборудование, технологии, обучать людей и тем самым повышать свой технологический уровень. Тогда у бизнеса появится и спрос, и вкус к инновациям».
Именно это вот уже на протяжении пяти лет имеет место в агропроме: по некоторым показателям мы почти поднялись на уровень мировых лидеров отрасли (см. цифры выше). Более того, недавно на «правительственном часе» в Государственной думе министр сельского хозяйства Елена Скрынник подчеркнула, что многие отечественные предприятия птицеводства и свиноводства модернизированы успешнее, чем в Евросоюзе.
Неудивительно, что производство мяса в России быстро растет; соответственно и его импорт в 2012 году упадет до 18%, что вдвое ниже уровня 2008 года. Не за горами и достижение показателя Доктрины продовольственной безопасности: импорт мяса не должен превышать 12%, и это будет в основном говядина.
В течение ближайших года–полутора страна практически покроет потребности в курятине, а еще через год–два – в свинине. Затем наступит эпоха массированного экспорта этих продуктов, и на международном уровне сейчас ведутся согласования основных направлений экспорта, его логистических маршрутов и ветеринарных правил. Впрочем, первые поставки российских курятины и свинины за рубеж уже идут: в 2009 году – 10 тыс. т, в 2010-м – примерно 20 тыс. т, в 2011-м – оценочно 60–80 тыс. т. Даже трудно поверить, что недавно наш рацион зависел от ножек Буша из-за океана.
Затронул научный руководитель ВШЭ и такую актуальную тему как применение генномодифицированных растений. Хотя у нас в стране их выращивание пока не разрешено, прогресс остановить невозможно. За их легализацию уже высказался президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, а главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал генномодифицированные продукты и биотехнологии благом для страны. Давно доказана безвредность употребления как генномодифицированных растений, так и мяса, произведенного с их использованием в качестве корма. И Евгений Ясин прав, когда утверждает, что такая продукция давно на столах у россиян. Прежде всего, это говядина из Северной и Южной Америк, где животных откармливают соей (практически вся модифицирована генетиками) и кукурузой (модифицирована на 70%). Кстати, и 70% лекарств производится с использованием ГМ-технологий.
Принято считать, будто сельское хозяйство в России – занятие рискованное. Право же, рисков у нас не больше, чем в такой ведущей индустриально-аграрной стране как Австралия. По экспертным расчетам, к 2020 году Россия будет ежегодно экспортировать мяса на сумму от $1,5 млрд до $2,0 млрд. Всего же мы можем кормить 1 млрд людей – в 10 раз больше, чем сейчас. Этот грандиозный бизнес и станет одним из важнейших направлений диверсификации отечественной экономики.
Виктор Бирюков,
член правления РСПП
http://victor-biryukov.ru/
http://victor-biryukov.livejournal.com/