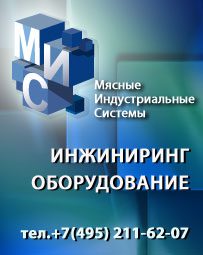|

Владимир Фисинин: «Память — существенная и важная часть нашего бытия»
Человек эпохи интернета тонет в мире разрозненной информации. Поймать в нем хвосты одного явления и связать причину со следствием — уже означает успех. Особенно если это явление отечественной истории, полной парадоксов, где история сельского хозяйства — не исключение. Та же комбинация сложных пазлов и ребусов, некоторые из которых, словно состав, продолжали движение во времени по проложенным рельсам, лишь отцепляя вагоны и меняя названия на остановках (подобно столыпинским аграрным реформам, включающим расселение и уничтожение общины, латентно длящимся, наверное, вплоть до 70-х годов ХХ столетия). С нуля не разобраться в столетней цепочке взаимосвязей, открытий, конфликтов и фамилий — слишком много разных, «общепринятых», а то и взаимоисключающих точек зрения даже на биографию того или иного ученого. Что уж говорить о достижениях отдельно взятой отрасли!
 В профессоре и академике РАСХН Владимире Ивановиче Фисинине год назад журнал «PG» разглядел не просто большого ученого, а титана, фигуру героическую — Геракла советской империи. Тогда в интервью он только рассказывал о своем очередном намерении — разгрести «авгиевы конюшни» сельскохозяйственной истории и навести там порядок. Прошло чуть меньше года, а на его письменный стол уже лег результат подвига — огромная красная книга: «Ученые-птицеводы России. Люди и птицы». Это не та стандартная энциклопедия нового времени, где дискретность событий и биографий не дает сложиться общей картине, а настоящая карта навигации в истории птицеводства, в которой не только выявлены и обозначены все скрытые рифы, но и возвращены в строй памяти все утерянные имена, некогда имевшие значение для отрасли. Труд начинается с истоков птицеводческой науки ХIХ века и проводит экскурсию по периодам советского птицеводства, снабдив читателя таблицами, диаграммами и фотографиями — последние где только не добывались: в газетах 60-х годов, в личных архивах, а одну (первого директора ВНИТИПа) даже прислали из США. Благодаря собранному материалу книга расширилась до объемной второй части, посвященной жизни и научной деятельности ученых и специалистов, внесших значительный вклад в аграрную науку России. Но Владимир Иванович не был бы собой, если бы не вписал в историю птицеводства даже… будущее — второе десятилетие ХХI века!
В профессоре и академике РАСХН Владимире Ивановиче Фисинине год назад журнал «PG» разглядел не просто большого ученого, а титана, фигуру героическую — Геракла советской империи. Тогда в интервью он только рассказывал о своем очередном намерении — разгрести «авгиевы конюшни» сельскохозяйственной истории и навести там порядок. Прошло чуть меньше года, а на его письменный стол уже лег результат подвига — огромная красная книга: «Ученые-птицеводы России. Люди и птицы». Это не та стандартная энциклопедия нового времени, где дискретность событий и биографий не дает сложиться общей картине, а настоящая карта навигации в истории птицеводства, в которой не только выявлены и обозначены все скрытые рифы, но и возвращены в строй памяти все утерянные имена, некогда имевшие значение для отрасли. Труд начинается с истоков птицеводческой науки ХIХ века и проводит экскурсию по периодам советского птицеводства, снабдив читателя таблицами, диаграммами и фотографиями — последние где только не добывались: в газетах 60-х годов, в личных архивах, а одну (первого директора ВНИТИПа) даже прислали из США. Благодаря собранному материалу книга расширилась до объемной второй части, посвященной жизни и научной деятельности ученых и специалистов, внесших значительный вклад в аграрную науку России. Но Владимир Иванович не был бы собой, если бы не вписал в историю птицеводства даже… будущее — второе десятилетие ХХI века!
PG Владимир Иванович, как вам удалось так быстро реализовать задуманное?
Владимир Фисинин Я на эту книгу затратил два своих отпуска. Просто сидел в коттедже в Сергиевом Посаде — он у меня недалеко от института, в двенадцати минутах ходьбы. Ходил в архив, в библиотеку, там книг набирал домой так много, что мне тогда даже 4-летняя внучка замечание сделала: дед, ну такого безобразия я еще не видела — весь диван заложен старыми книгами! (Смеется.)
PG Что было первоосновой вашего труда — история науки в дореволюционное и советское время или сами люди?
В.Ф. Вначале — люди. Когда я нашел изречение Исаака Ньютона «я видел так далеко вперед потому, что стоял на плечах гигантов-предшественников...», то решил твердо: буду писать книгу. Я подумал: вот про миллиарды яиц — помню, про миллионы тонн мяса — помню. А кто за всем этим стоял несколько веков?? Ведь люди стояли. И вот с этого размышления я начинаю книгу. Omne vivum ex ovo — «все живое из яйца», эта истина полностью относится к птицеводству, древнейшей отрасли сельского хозяйства. Историческая жизнь людей в разных странах былых веков тесно связана с птицей. Ибо, как образно сказал знаменитый биолог Альфред Брем, «птицы — всесветные граждане». А я подумал: люди ведь тоже — всесветные граждане, люди и птицы. Так и подзаголовок родился.
Вначале я предполагал дать страниц двадцать научного описания, а потом перейти к воплощению первоначального замысла — биографической энциклопедии. Но вот стал собирать материал, копаться в архивах и поймал себя на мысли: мы ведь даже сами не знаем, что до нас сделано! Ходим в профессорах, а не знаем. Первым я открыл Теплова (Григорий Николаевич жил в 1711-1779 годах). В этом году исполнилось 300 лет со дня его рождения. Он написал книгу «Птичий двор», я назвал бы ее монографией, в 104 страницы. Казалось бы, его труд далек от научной теории: «всегда в одно время кормить кур должно, чтобы они порядочно неслись», дальше — «корма надо давать на одном месте». Простая истина! «Бобов давать не надобно много, от них птица жиреет». Но если вдуматься, ведь мы сегодня как раз решаем одну из проблем: как не допустить ожирения бройлеров. Чем больше в тушке жира, тем хуже конверсия корма, тем больше затраты кормов. Потому что на образование одного грамма жира расходуется в два раза больше питательных веществ, чем на один грамм мышечной ткани.
Кстати, был еще один юбилей в 2011 году — 260 лет со дня рождения Николая Петровича Осипова, у него в Петербурге вышла «Карманная книга сельского и домашнего хозяйства», которая включала экономический календарь для птицеводства. Все это люди необычайные, вот дальше вырастает фигура профессора Всеволодова… Когда я приехал в мае читать лекцию в Санкт-Петербургскую ветеринарную академию, смотрю — там висит его огромный портрет. Оказывается, Всеволодов был первым ректором и создателем этой Академии.
PG Получается, даже такие величины малоизвестны? Это был узкий профессиональный круг людей?
В.Ф. Да, как раз сегодня мне позвонила чуть не в слезах одна женщина, жена известного специалиста и сказала, что за два дня прочитала книгу, а потом ночь не могла заснуть. Сказала: вы мне вернули молодость! Многих людей, которых я увидела на фотографиях, я знала лично… Фотографии действительно уникальные. Вы ведь слышали о Чижевском (изобретателе той самой «люстры». — Авт.)? Он тоже работал в нашем институте завотделом в отделе ионизации — уже тогда проводил эксперименты с цыплятами. А вот на фотографии Третьякова Елена Ивановна. Рядом она же — со Звездой Героя. Они вместе: Хрущев, Фурцева — секретарь по культуре, и Третьякова — секретарь по аграрным вопросам. Елена Ивановна с мужем вместе работали у нас в институте, а потом он с 1950-го по 1957-й возглавлял институт птицеводства. А я взял у него эстафету, и вот как раз 14 декабря 2011 года исполнилось ровно 40 лет, как я возглавляю ВНИТИП (Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства). Это даже вообразить сложно! Кстати, их сын — член-корреспондент нашей Академии, Николай Николаевич Третьяков. Ему 81 год. А их внук — кандидат наук, птицевод, работает на фирме «Биг Дачмен». Такие выкладываются интересные династии.
PG Какие имена из истории птицеводства мы просто обязаны знать?
В.Ф. Всего у меня в книге 1700 фамилий. Начиная с 1754 года, когда вышла первая книга по птицеводству. «Ничто на земле не проходит бесследно», — такой я выбрал заголовок для сборки биографий. Поскольку объять необъятное оказалось делом сложным, в конце второй части я добавил список, в который внес докторов и кандидатов наук, сделавших свой вклад в развитие отечественного птицеводства. Вот мы, например, знаем Андрея Тимофеевича Болотова как основателя агрономии в России. А я вдруг обнаружил несколько его работ по птицеводству, и одна из работ называлась «О вываживании из яиц цыплят без наседки», где Болотов критически изложил иностранный способ выведения из яиц и описал создание первого, по сути, инкубатора в России. В одной из своих статей он описывает, как одну из своих комнат превратил в горенку и там впервые при помощи керосиновых ламп вывел цыплят из трех тысяч яиц.
PG Владимир Иванович, а в какой период появилась информация о массовых инкубаторах? Одно дело вот так, в горенке, а другое — уже производство?
В.Ф. В дореволюционной России крупных хозяйств не было, все были небольшими, хотя за рубежом такие хозяйства уже существовали, например, в Германии. Мы в определенной степени отставали от Запада, где климат более благоприятный для содержания птицы. В России ведь кур никогда не держали в отдельном помещении! Их держали вместе со скотом, и поэтому домашних птиц часто называли «сорными курами». Тогда впервые ставились вопросы о проведении выставок, чтобы крестьяне покупали племенную продукцию, повышали продуктивность. Допустим, у графини Орловой максимум десять тысяч голов содержалось, и то в разных местах. Когда создавались «Горки-2», где было всего две тысячи кур, то хозяйство считалось одним из крупнейших. По-настоящему крупные хозяйства в России возникли в 1925-1930 годах 20-го столетия.
PG Какие еще открытия состоялись у вас лично благодаря погружению в «куриный» архив?
В.Ф. Мне казалось, что мы больше всего знаем об Иване Ивановиче Абозине (1846-1908 годы), основоположнике научного отечественного птицеводства. Он написал много работ и монографий, среди которых «Куроводство», «Русский промысловый птичник», «Доходное птицеводство в мелких хозяйствах» и др. Абозина принято было считать профессором. Но как-то в архиве я открыл отчет любителей птицеводства и нашел там некролог Абозина, из которого вычитал, что он не мог быть профессором, потому что у него не было высшего образования! То есть Абозин закончил всего три курса петровской Академии, но был настолько талантлив, что написал столько книг и начал подходить к птицеводству с научной точки зрения.
Когда он почувствовал, что Россия отстает в знаниях, то в преклонных годах, за шесть месяцев, в совершенстве овладел английским языком — для того чтобы перевести Райта, Кука, Брауна — всех английских авторитетов — на русский язык. Переводы способствовали повышению информированности общества, и мы начали завозить новые породы — леггорнов, виандотов, фавероль… До этого у нас была одна только русская хохлатка, мы гордились тем, что она очень хорошо приспособлена — нетребовательна!
В том же некрологе про Абозина было написано, что он обессмертил свое имя внесением огромного вклада в отечественную литературу по птицеводству. Этот человек еще и журнал возглавлял, но отчего-то попал в немилость, и князь Урусов позже помогал ему устроиться работать. Ну и типичный случай из российской истории (вздыхает): «умер Иван Иванович Абозин, оставив семью без средств к существованию, и был похоронен на Дорогомиловском кладбище». А ведь именно его деятельность привела к проведению первой международной выставки конца ХIХ века, которая прошла в Санкт-Петербурге и стала истоком Всемирной Ассоциации по птицеводству.
Первым президентом был избран англичанин Браун, который на открытии произнес: «Созданию этой ассоциации мы обязаны русским. И мы должны их за это поблагодарить!» Это все опубликовано. Наткнулся я еще на одного совершенно уникального человека, профессора Елагина Павла Николаевича. Случайно нашел несколько его книг, в том числе «Практическое птицеводство», «Об условиях разведения домашней птицы в России», «Куры и уход за ними», и думаю: почему же о нем в наше время ничего не писали? И понял почему.
Не могли в советское время вписать в историю птицеводства биографию яркого дворянина. Он оказался сыном государственного цензора Двора его Императорского Величества. Елагинский дворец в Санкт-Петербурге, Елагинский остров — это все их владения. И вот я пришел с книгой Елагина к одному высокопоставленному чиновнику и говорю: надо же, Россия совсем не меняется! — Почему?? — Хотите, я вам зачитаю то, что было написано 130 лет назад? И читаю: «Необходимо урегулировать железнодорожные тарифы на провоз продуктов птицеводства… увеличить носкость курицы: наша простая сносит в год 60-80 яиц, заурядные куры иностранных пород — 120-130… ввозимую в Россию откормленную птицу обложить пошлиной, это могло бы способствовать развитию деятельности как уже существующих наших откормочных заведений, так и возникающих новых». И еще: дабы не быть дураками, не надо по дешевке продавать за границу зерно, на котором немцы откармливают нашу недокормленную птицу, вешают лейбл «германская» или «венгерская» и продают ее втридорога». Иностранцы у нас покупали живую птицу, и мы ее туда доставляли. Там они дооткармливали и перепродавали.
PG Невозможно поверить в отсутствие у нас в то время кормов для птицы!
В.Ф. Дело вот в чем: курица, которую держали на подворье, никогда не считалась главной в животноводстве. Птица была «подсобной»: склюет что-то, снесет без особого труда — этим почти никто не занимался. Только в 1905 году начали закупать племенных кур и почувствовали разницу — если их хорошо не кормить, то хорошего результата не выйдет.
У П.Н.Елагина я нашел очень интересный материал об экспорте. Сегодня говорим: надо экспортировать. Открываю книгу и нахожу: «Вывоз из России продуктов птицеводства. 1881 год. Мы экспортировали 67 миллионов. Но вы посмотрите, прошло несколько лет, 1906 год — 2 миллиарда 833 миллиона. 52 процента рынка Англии — русское яйцо! 27 — Германии, 93 процента — Австро-Венгрии. Меня, как специалиста, поразило, что они не только яйцо продавали. Они раздельно продавали желтки и белки! А почему? С 1895 года мы уже тоже продавали раздельно белки и желтки. Сегодня мы говорим: одна из наших важнейших задач — это глубокая переработка яиц. В 1882 году в Курской и Воронежской губерниях были построены первые белково-альбуминные заводы, которые начали переработку яйца. Но у нас, к сожалению, не было пищевой жести, ее закупали во Франции. И вот жидкое яйцо, упакованное в банке по 6 килограммов, шло за рубеж. Туда же продавали и пух, и перо. А также продавалась живая птица, битая и дичь.
PG Кто еще шел на экспорт — гуси, перепела..?
В.Ф. Экспорт водоплавающей птицы был одной из важных статей доходов. Сегодня, наверное, удивительно слышать о том, что гусей не только возили поездами, но и гнали гоном через границу — из Псковской губернии в Польшу и по другим маршрутам. Вначале стелился стальной лист, на него выливали расплавленный вар, который гуси переходили ногами, и таким образом подковывались. После этого, осенью, когда посевы только убирали, их гнали хворостиной — по жнивью, 15-20 км в день. Воду по пути находили, а на полях подбирали остатки посевов. Без подков на лапках могли образоваться мозоли.
PG Каков основной импульс вашей «красной» книги?
В.Ф. Мы очень часто думаем, что это мы все сделали, а на самом деле даже Ньютон признается, что стоял на плечах гигантов. Так и в книге я пишу, что в бестолковой суете мы забываем о людях истории, об их большом вкладе. Надо вспоминать их, потому что память — существенная и важная часть нашего бытия. А мы стали все забывать, у нас ведь даже не очень принято вычерчивать свою родословную — еще помним бабушку, дедушку… А прабабушку? Прадедушку? Многие их и не знают…
Я испытываю потрясение, когда открываю работу 1932 года и читаю: «Обмен витамина С у кур-несушек». Это будущий академик Вальдман тогда уже этим вопросом занимался. Тогда о витамине С не знали столько, как сегодня. К тому же многие исследования прекращались, вспомните 48-й год и Лысенко — «кончайте заниматься этой генетикой!». Вот в нашем институте работал профессор Петров Сергей Гаврилович. У него в 1933 году вышла знаменитая книга «Генетика для птицеводов». Пришли лысенковские времена, и он вынужден был на долгие годы забыть об этом труде, стал работать на кафедре пчеловодства в Тимирязевской академии. А когда я в 71-м году стал директором института, он был членом диссертационного совета, я часто с ним беседовал. Но когда я сегодня открываю его работы, то обнаруживаю те же потрясающие вещи — он тогда ставил по селекции такие вопросы, которые мы только в 70-х годах начали поднимать — и индивидуальная селекция, и создание семейной селекции…
Птицеводство — вовсе не удел фанатиков и чудаков. Константин — родной брат царя, принимал экзамены у птицеводов в своем имении Знаменка под Петергофом. Курсы проходили 9 человек. И кто был в комиссии — князь Урусов, а попечительский совет возглавляла сама императрица. Какие люди! Это значит, что они не были далеки от реальности и вовсе не купались в одной роскоши. Нет, они сами ставили вопросы и понимали, что нужно обучать людей, проводить выставки. И по предложению Елагина — выставлять птицеводство не в конце выставки, а в первых рядах, чтобы люди сразу видели!
PG Оказывается, среди известных ученых-птицеводов был и прямой родственник актера и режиссера Никиты Михалкова?
В.Ф. Да, большой вклад в развитие нашего птицеводства внес Владимир Александрович Михалков — отец Сергея Михалкова, дед Никиты. В 1924 году он уже написал книгу «Как заставить курицу давать хороший доход», предлагая организацию кооперативных промысловых товариществ по птицеводству. Вот хоть бери инструкции и прикладывай к нашей сегодняшней жизни! Почему у нас сегодня половина коров в частной собственности, а товарность молока — всего 18 процентов? Это значит, что 18% молока идет на переработку, но куда девается остальное? В кормушку поросенку. Потому что нет кооперации. А ведь после войны и до — существовали кооперативы, куда каждый человек мог сдать излишки. Не терялась ни одна шкура крупного рогатого скота, ее забирали специальные заготовщики — все шло в производство. Сегодня эти шкуры тысячами на свалки выкидывают. А ведь что только из этого можно было сделать.
К сожалению, Владимиру Александровичу удалось пожить недолго — из-за крупозного воспаления легких он сгорел за три дня. В 1981 году Сергей Михалков обращался ко мне с письмом, в котором написал, что решил пожертвовать ВНИТИП книги отца — «Разведение уток, гусей и индеек» (1930 год), «Яйценоская сухопутная утка индийский бегун» (1928 год), «Руководство промышленному птицеводству» (1931 год) и другие. Все книги В.А.Михалкова с дарственной надписью его сына, поэта Михалкова, хранятся у нас в институте. Именно им была организована первая инкубаторная птицеводческая станция России в Пятигорске. Позднее, в 60-х, мы начали говорить, что необходимо клеточное выращивание бройлеров, клеточное выращивание цыплят (а не напольное). Но у Михалкова уже в 1929 году был батарейный цех, где по клеткам выращивалось 90 тысяч цыплят! Собирая материал для своей книги, я узнал, что первые мысли о том, как сделать промышленный инкубатор, пришли именно ему. Михалков набросал чертежи совместно с инженером Горецким. Позднее Горецкий довел инкубатор «до ума», это стал знаменитый инкубатор-универсал, за который он в 1945 году получил лауреата Сталинской премии.
Не менее удивительно и то, что, поднимая старые журналы 29-30-го годов, я обнаружил бурные дебаты под заголовком: «Вы за хохлатку или за леггорн?». В этих журналах Михалкова критикуют и склоняют на все лады за его высказывание: надо с мелкой непродуктивной русской птицы переходить на леггорн! Мог ли он представить, что через тридцать с лишним лет после его смерти мы только начнем делать то, что он уже предлагал… В 1964 году мы стали завозить первые кроссы леггорнов, а сегодня уже все яичное птицеводство — сплошной леггорн! Надо сказать, что в этой дискуссии находились и люди, которые поддержали Михалкова. Ведь, повторюсь, кроме неприхотливости, русская белая порода кур не отличалась особыми преимуществами.
История демонстрирует, как тяжело нам давался переход на более выгодные и эффективные породы и системы. Даже позиция революционно настроенных ученых, готовых жертвовать своей жизнью, не всегда способствовала осуществлению прорыва. Сравните, в Америке сейчас 9,2 миллиона коров, ровно столько, сколько было у нас два года назад. Но мы получили 31,8 миллиона тонн молока, а они — 86. От того же поголовья! А почему? Потому что они не болтают об инновациях, а делают. Средний удой в США в 2008 году — 9273 килограмма на корову. И это никакой не эксперимент, а реальность, факты. Поэтому можно сказать: давайте восстановим 20 миллионов коров, которые под нож лягут, а можно сказать: примените инновации, повысьте продуктивность. Где нам на эти 20 млн найти деревень и бабушек, которые бы, как в былые времена, вставали в 4 утра, шли на ферму и доили — утром, днем и вечером. Нет этих людей и не будет уже! Нужно создавать семейные фермы, где уже будут роботы помогать, и чтобы жилье было комфортным, тогда люди пойдут в деревню. Нужна мотивация в этом отношении.
PG По вашим словам, в России долгое время один за другим появлялись труды о выращивании цыплят, уходе за птицей, кормах, а выходили ли научные исследования по яйцу?
В.Ф. Очень много работ было о том, как повысить яйценоскость, и второе — описывалось качество, свойство яйца. Я очень хорошо помню послевоенную сибирскую деревню, где мы жили. Куры там не неслись круглый год, потому что они сидели в сарае и переставали нестись, как только наступали холода. Бабушка собирала каждое яйцо и никому не давала, потому что ждали Пасху. На Пасху начинали красить яйца, а мы с пацанами играли в лунки, ходили по деревне, кто у кого разобьет... В 50-е годы больному в больницу несли куриный бульон — это считалось лучшей послеоперационной пищей. То есть все полезные свойства были известны и описаны гораздо раньше.
Я звоню директору института и говорю: хочешь, продам тебе рецепт колбасы с гусиным мясом? Он говорит: да нет такого! — Нет??? Тогда читай! 1886 год, рецепты колбас с включением гусиного жира и мяса. То есть я опять о том же: надо не забывать то, что до нас сделали! А сделано для успеха было уже практически все.
Научный сотрудник ВАСХНИЛ Назарьевский описывал, как было трудно, когда страна еще только становилась, а люди уже начинали думать, чтобы не жить на импортном оборудовании. В его статьях 1932 года: «Техническая база социалистического птицеводства» и «Механизация оборудования птицеводческих хозяйств» — он характеризовал техническую базу птицеводства следующим образом: в 1929-1930 годах мы импортировали из-за границы инкубаторы, брудеры и даже примитивное оборудование. В настоящее время мы имеем свою промышленность, инкубаторо- и брудеростроение, благодаря которым мы полностью избавились от иностранной зависимости в этой области и смогли встать на путь быстрого развертывания птицеводства. К маю 31-го по Союзу насчитывалось инкубаторов различных систем на 23 миллиона яйцемест. В то время как в 30-м году их число составляло всего 4-5 миллионов. Вот темпы!
Для справки, в 1931 году в СССР работало свыше 120 птицесовхозов с общим размером стада в два миллиона голов, 222 инкубаторные птицеводческие станции и до 9 тысяч колхозных птицеферм. В Америке сразу вышли на крупные хозяйства, но не бросали приусадебные. Своими глазами я видел самую крупную ферму, на которой было всего три бройлерника. Сегодня их и восемнадцать, и тридцать шесть на одной площадке у фермера. Потому что более крупное всегда более выгодное. Интеграция и кооперация здесь сыграли свою определяющую роль.
PG Почему у нас так и не сложился класс фермеров?
В.Ф. Дело в том, что на крупных фабриках у нас сегодня производится 90 процентов мяса птицы, и только 10 процентов — у населения. Население отказалось от несушек, мелких инкубаторов, потому что через свои репродукторы мы даем им высокопродуктивную птицу, ту, на которой работает птицефабрика. У населения производится 22% яйца. Мы также продаем им привитых цыплят, и кур, выдержанных на фабрике 12 месяцев продуктивного периода. Раньше их забивали, но сейчас решили продавать населению. В апреле прошлого года в Башкирии продали населению 146 тысяч таких кур-несушек. Семья берет на садовый участок 12 кур, имеет каждый день свежее яйцо, 6-8 штук. Осенью в ноябре их забивают — получают еще и мясо.
Более того, некоторые хозяйства подращивают бройлеров до 7 дней и продают семидневных. Потому что суточных населению сложно вырастить, нужно поддерживать температуру 35 градусов. Но мы констатируем, что с каждым годом количество бройлеров все уменьшается. Уходит старое поколение, а молодежи не нравится этим заниматься, они не привыкли жить в деревнях. Крупные фермы имеются только в гусеводстве и утководстве. В них до 10 тысяч взрослых гусей на ферме — инкубируют и продают населению.
Это очень выгодное дело. В Омск едут из Иркутска, чтобы утят взять! Можете себе представить? То есть тяга у людей есть, надо сделать все, чтобы эту тягу поддержать. Фермеры-гусеводы вообще молодцы, создали свою ассоциацию, свою пухо-перьевую фабрику в Башкирии, шьют одеяла, одежду из пуха и пера водоплавающей птицы. Вот такой подход я поддерживаю — не только промышленное направление, но и частные хозяйства.
PG Владимир Иванович, откройте нам секрет, вы текст пишете от руки или на компьютере набираете?
В.Ф. Я пишу от руки. У меня секретарь сидит, она прекрасно понимает мой почерк. А компьютером не пользуюсь, так как не очень хорошее зрение. Без увеличительного стекла даже смс не могу набрать. Когда мы со Святославом Федоровым были народными депутатами, он заметил, что я щурюсь, определил астигматизм, позвал к себе в центр. Но когда посмотрел, то решил не оперировать. Потому что врожденное нарушение, то, что связано с нервом, — еще неизвестно, как повернется после операции. Федоров говорит: на охоту же ходишь, кабана видишь? Я говорю: вижу. — Ну, на твои сто лет зрения хватит.
PG В кабана попадаете?
В.Ф. Не каждый раз (смеется), но попадаю! Каждый год езжу. На утку тоже. Но ребятам завидую — тем, кто хорошо стреляет. Ребята пока 20 настреляют, я за это время трех уложу — это уже хорошо. У меня дед-кузнец был охотник, он нас выходил в войну тем, что, когда в Сибири жили, в мелководных озерах наловит рыбы, сушит, мы могли и уху есть, а весной икры было невесть сколько… Мне было 3-4 года, мы плывем среди цветущих лилий, вода чистейшая, помню, что бы ни летело, он прицелится и точно убьет. Я — нет, но на природе млею, сижу слушаю, где веточка какая хрустнет. Щелк! Может, зверь идет. Солнца луч выйдет, вокруг такие тени… Думаю: черт побери, почему я не рисую!
Чаще бываю в Смоленской и Ярославской области, за Угличем. Сейчас столько брошенных земель, поля изрыты кабаном. Едешь — деревни брошенные, зверя много развелось, но получаешь удовольствие не столько от мяса, сколько от самого процесса. Приезжаешь — и уже с ног валишься от этих ботфортов, но все равно — в баньку, а потом — в речку, даже если и ледок есть. Дед меня приучил к бане. Помню 1946 год. Баня у нас была в земле, называлась «землянка», и топилась по-черному. В предбаннике все было выстлано соломой. Помню, дед был в рукавицах, как поддаст жару, и я на коленях выползаю оттуда на эту солому. Дома стоял самовар, и после бани они с бабушкой сидели и пили чай. И дедушка, чтобы похвалиться, спрашивает: ну как, внучок, хорошо было? Я: хорошо, дедушка, не жарко! Дедушка: оохх, язви тебя в душу!!! (Смеется.) Такая у него приговорка была.
В этом году я побывал на могиле у деда, ему, как кузнецу, сделали кованую ограду с наковальней и молотом. Хотел в родных местах побывать — это Голубковский совхоз… Приехал, а деревни уже нет, и только две яблони стоят. Вдруг вижу — колодец, русский журавль. Он стоял рядом с дедом, и там — кузнечная петля, доставать воду. А на ней — дедушкино клеймо. По мне как ток пробежал…
PG Ваша книга «Люди и птицы» — тоже своеобразная встреча с родиной, историей, предками?..
В.Ф. Да, я еще раз убедился, что нам надо писать о людях, создавать энциклопедию в каждой отрасли — по молочному животноводству, по мясному, по коневодству… Там же такая богатая история, где мы найдем и графа Орлова, и уникальные фотографии. Может получиться даже 3-, 4-томник, но надо начинать! Тем более, насколько мне известно, когда мы издали книгу по генофонду кур — она вмиг разошлась. В книге я показал, как начиналась ветеринарная служба в птицеводстве, и люди глаза открыли: мы этого не знали! А не знали потому, что мы не занимаемся историей и методологией зоотехнии. Но без этого невозможно рассматривать ни одну отрасль. Материалы по каждой отрасли должны быть собраны и систематизированы. И нравится кому-то или не нравится, что между академиком Серебровским и Ивановым была схватка, — людей уже нет, а нам надо знать, почему был конфликт и кто оказался прав. Это все история нашей науки.
 В профессоре и академике РАСХН Владимире Ивановиче Фисинине год назад журнал «PG» разглядел не просто большого ученого, а титана, фигуру героическую — Геракла советской империи. Тогда в интервью он только рассказывал о своем очередном намерении — разгрести «авгиевы конюшни» сельскохозяйственной истории и навести там порядок. Прошло чуть меньше года, а на его письменный стол уже лег результат подвига — огромная красная книга: «Ученые-птицеводы России. Люди и птицы». Это не та стандартная энциклопедия нового времени, где дискретность событий и биографий не дает сложиться общей картине, а настоящая карта навигации в истории птицеводства, в которой не только выявлены и обозначены все скрытые рифы, но и возвращены в строй памяти все утерянные имена, некогда имевшие значение для отрасли. Труд начинается с истоков птицеводческой науки ХIХ века и проводит экскурсию по периодам советского птицеводства, снабдив читателя таблицами, диаграммами и фотографиями — последние где только не добывались: в газетах 60-х годов, в личных архивах, а одну (первого директора ВНИТИПа) даже прислали из США. Благодаря собранному материалу книга расширилась до объемной второй части, посвященной жизни и научной деятельности ученых и специалистов, внесших значительный вклад в аграрную науку России. Но Владимир Иванович не был бы собой, если бы не вписал в историю птицеводства даже… будущее — второе десятилетие ХХI века!
В профессоре и академике РАСХН Владимире Ивановиче Фисинине год назад журнал «PG» разглядел не просто большого ученого, а титана, фигуру героическую — Геракла советской империи. Тогда в интервью он только рассказывал о своем очередном намерении — разгрести «авгиевы конюшни» сельскохозяйственной истории и навести там порядок. Прошло чуть меньше года, а на его письменный стол уже лег результат подвига — огромная красная книга: «Ученые-птицеводы России. Люди и птицы». Это не та стандартная энциклопедия нового времени, где дискретность событий и биографий не дает сложиться общей картине, а настоящая карта навигации в истории птицеводства, в которой не только выявлены и обозначены все скрытые рифы, но и возвращены в строй памяти все утерянные имена, некогда имевшие значение для отрасли. Труд начинается с истоков птицеводческой науки ХIХ века и проводит экскурсию по периодам советского птицеводства, снабдив читателя таблицами, диаграммами и фотографиями — последние где только не добывались: в газетах 60-х годов, в личных архивах, а одну (первого директора ВНИТИПа) даже прислали из США. Благодаря собранному материалу книга расширилась до объемной второй части, посвященной жизни и научной деятельности ученых и специалистов, внесших значительный вклад в аграрную науку России. Но Владимир Иванович не был бы собой, если бы не вписал в историю птицеводства даже… будущее — второе десятилетие ХХI века!
PG Владимир Иванович, как вам удалось так быстро реализовать задуманное?
Владимир Фисинин Я на эту книгу затратил два своих отпуска. Просто сидел в коттедже в Сергиевом Посаде — он у меня недалеко от института, в двенадцати минутах ходьбы. Ходил в архив, в библиотеку, там книг набирал домой так много, что мне тогда даже 4-летняя внучка замечание сделала: дед, ну такого безобразия я еще не видела — весь диван заложен старыми книгами! (Смеется.)
PG Что было первоосновой вашего труда — история науки в дореволюционное и советское время или сами люди?
В.Ф. Вначале — люди. Когда я нашел изречение Исаака Ньютона «я видел так далеко вперед потому, что стоял на плечах гигантов-предшественников...», то решил твердо: буду писать книгу. Я подумал: вот про миллиарды яиц — помню, про миллионы тонн мяса — помню. А кто за всем этим стоял несколько веков?? Ведь люди стояли. И вот с этого размышления я начинаю книгу. Omne vivum ex ovo — «все живое из яйца», эта истина полностью относится к птицеводству, древнейшей отрасли сельского хозяйства. Историческая жизнь людей в разных странах былых веков тесно связана с птицей. Ибо, как образно сказал знаменитый биолог Альфред Брем, «птицы — всесветные граждане». А я подумал: люди ведь тоже — всесветные граждане, люди и птицы. Так и подзаголовок родился.
Вначале я предполагал дать страниц двадцать научного описания, а потом перейти к воплощению первоначального замысла — биографической энциклопедии. Но вот стал собирать материал, копаться в архивах и поймал себя на мысли: мы ведь даже сами не знаем, что до нас сделано! Ходим в профессорах, а не знаем. Первым я открыл Теплова (Григорий Николаевич жил в 1711-1779 годах). В этом году исполнилось 300 лет со дня его рождения. Он написал книгу «Птичий двор», я назвал бы ее монографией, в 104 страницы. Казалось бы, его труд далек от научной теории: «всегда в одно время кормить кур должно, чтобы они порядочно неслись», дальше — «корма надо давать на одном месте». Простая истина! «Бобов давать не надобно много, от них птица жиреет». Но если вдуматься, ведь мы сегодня как раз решаем одну из проблем: как не допустить ожирения бройлеров. Чем больше в тушке жира, тем хуже конверсия корма, тем больше затраты кормов. Потому что на образование одного грамма жира расходуется в два раза больше питательных веществ, чем на один грамм мышечной ткани.
Кстати, был еще один юбилей в 2011 году — 260 лет со дня рождения Николая Петровича Осипова, у него в Петербурге вышла «Карманная книга сельского и домашнего хозяйства», которая включала экономический календарь для птицеводства. Все это люди необычайные, вот дальше вырастает фигура профессора Всеволодова… Когда я приехал в мае читать лекцию в Санкт-Петербургскую ветеринарную академию, смотрю — там висит его огромный портрет. Оказывается, Всеволодов был первым ректором и создателем этой Академии.
PG Получается, даже такие величины малоизвестны? Это был узкий профессиональный круг людей?
В.Ф. Да, как раз сегодня мне позвонила чуть не в слезах одна женщина, жена известного специалиста и сказала, что за два дня прочитала книгу, а потом ночь не могла заснуть. Сказала: вы мне вернули молодость! Многих людей, которых я увидела на фотографиях, я знала лично… Фотографии действительно уникальные. Вы ведь слышали о Чижевском (изобретателе той самой «люстры». — Авт.)? Он тоже работал в нашем институте завотделом в отделе ионизации — уже тогда проводил эксперименты с цыплятами. А вот на фотографии Третьякова Елена Ивановна. Рядом она же — со Звездой Героя. Они вместе: Хрущев, Фурцева — секретарь по культуре, и Третьякова — секретарь по аграрным вопросам. Елена Ивановна с мужем вместе работали у нас в институте, а потом он с 1950-го по 1957-й возглавлял институт птицеводства. А я взял у него эстафету, и вот как раз 14 декабря 2011 года исполнилось ровно 40 лет, как я возглавляю ВНИТИП (Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства). Это даже вообразить сложно! Кстати, их сын — член-корреспондент нашей Академии, Николай Николаевич Третьяков. Ему 81 год. А их внук — кандидат наук, птицевод, работает на фирме «Биг Дачмен». Такие выкладываются интересные династии.
PG Какие имена из истории птицеводства мы просто обязаны знать?
В.Ф. Всего у меня в книге 1700 фамилий. Начиная с 1754 года, когда вышла первая книга по птицеводству. «Ничто на земле не проходит бесследно», — такой я выбрал заголовок для сборки биографий. Поскольку объять необъятное оказалось делом сложным, в конце второй части я добавил список, в который внес докторов и кандидатов наук, сделавших свой вклад в развитие отечественного птицеводства. Вот мы, например, знаем Андрея Тимофеевича Болотова как основателя агрономии в России. А я вдруг обнаружил несколько его работ по птицеводству, и одна из работ называлась «О вываживании из яиц цыплят без наседки», где Болотов критически изложил иностранный способ выведения из яиц и описал создание первого, по сути, инкубатора в России. В одной из своих статей он описывает, как одну из своих комнат превратил в горенку и там впервые при помощи керосиновых ламп вывел цыплят из трех тысяч яиц.
PG Владимир Иванович, а в какой период появилась информация о массовых инкубаторах? Одно дело вот так, в горенке, а другое — уже производство?
В.Ф. В дореволюционной России крупных хозяйств не было, все были небольшими, хотя за рубежом такие хозяйства уже существовали, например, в Германии. Мы в определенной степени отставали от Запада, где климат более благоприятный для содержания птицы. В России ведь кур никогда не держали в отдельном помещении! Их держали вместе со скотом, и поэтому домашних птиц часто называли «сорными курами». Тогда впервые ставились вопросы о проведении выставок, чтобы крестьяне покупали племенную продукцию, повышали продуктивность. Допустим, у графини Орловой максимум десять тысяч голов содержалось, и то в разных местах. Когда создавались «Горки-2», где было всего две тысячи кур, то хозяйство считалось одним из крупнейших. По-настоящему крупные хозяйства в России возникли в 1925-1930 годах 20-го столетия.
PG Какие еще открытия состоялись у вас лично благодаря погружению в «куриный» архив?
В.Ф. Мне казалось, что мы больше всего знаем об Иване Ивановиче Абозине (1846-1908 годы), основоположнике научного отечественного птицеводства. Он написал много работ и монографий, среди которых «Куроводство», «Русский промысловый птичник», «Доходное птицеводство в мелких хозяйствах» и др. Абозина принято было считать профессором. Но как-то в архиве я открыл отчет любителей птицеводства и нашел там некролог Абозина, из которого вычитал, что он не мог быть профессором, потому что у него не было высшего образования! То есть Абозин закончил всего три курса петровской Академии, но был настолько талантлив, что написал столько книг и начал подходить к птицеводству с научной точки зрения.
Когда он почувствовал, что Россия отстает в знаниях, то в преклонных годах, за шесть месяцев, в совершенстве овладел английским языком — для того чтобы перевести Райта, Кука, Брауна — всех английских авторитетов — на русский язык. Переводы способствовали повышению информированности общества, и мы начали завозить новые породы — леггорнов, виандотов, фавероль… До этого у нас была одна только русская хохлатка, мы гордились тем, что она очень хорошо приспособлена — нетребовательна!
В том же некрологе про Абозина было написано, что он обессмертил свое имя внесением огромного вклада в отечественную литературу по птицеводству. Этот человек еще и журнал возглавлял, но отчего-то попал в немилость, и князь Урусов позже помогал ему устроиться работать. Ну и типичный случай из российской истории (вздыхает): «умер Иван Иванович Абозин, оставив семью без средств к существованию, и был похоронен на Дорогомиловском кладбище». А ведь именно его деятельность привела к проведению первой международной выставки конца ХIХ века, которая прошла в Санкт-Петербурге и стала истоком Всемирной Ассоциации по птицеводству.
Первым президентом был избран англичанин Браун, который на открытии произнес: «Созданию этой ассоциации мы обязаны русским. И мы должны их за это поблагодарить!» Это все опубликовано. Наткнулся я еще на одного совершенно уникального человека, профессора Елагина Павла Николаевича. Случайно нашел несколько его книг, в том числе «Практическое птицеводство», «Об условиях разведения домашней птицы в России», «Куры и уход за ними», и думаю: почему же о нем в наше время ничего не писали? И понял почему.
Не могли в советское время вписать в историю птицеводства биографию яркого дворянина. Он оказался сыном государственного цензора Двора его Императорского Величества. Елагинский дворец в Санкт-Петербурге, Елагинский остров — это все их владения. И вот я пришел с книгой Елагина к одному высокопоставленному чиновнику и говорю: надо же, Россия совсем не меняется! — Почему?? — Хотите, я вам зачитаю то, что было написано 130 лет назад? И читаю: «Необходимо урегулировать железнодорожные тарифы на провоз продуктов птицеводства… увеличить носкость курицы: наша простая сносит в год 60-80 яиц, заурядные куры иностранных пород — 120-130… ввозимую в Россию откормленную птицу обложить пошлиной, это могло бы способствовать развитию деятельности как уже существующих наших откормочных заведений, так и возникающих новых». И еще: дабы не быть дураками, не надо по дешевке продавать за границу зерно, на котором немцы откармливают нашу недокормленную птицу, вешают лейбл «германская» или «венгерская» и продают ее втридорога». Иностранцы у нас покупали живую птицу, и мы ее туда доставляли. Там они дооткармливали и перепродавали.
PG Невозможно поверить в отсутствие у нас в то время кормов для птицы!
В.Ф. Дело вот в чем: курица, которую держали на подворье, никогда не считалась главной в животноводстве. Птица была «подсобной»: склюет что-то, снесет без особого труда — этим почти никто не занимался. Только в 1905 году начали закупать племенных кур и почувствовали разницу — если их хорошо не кормить, то хорошего результата не выйдет.
У П.Н.Елагина я нашел очень интересный материал об экспорте. Сегодня говорим: надо экспортировать. Открываю книгу и нахожу: «Вывоз из России продуктов птицеводства. 1881 год. Мы экспортировали 67 миллионов. Но вы посмотрите, прошло несколько лет, 1906 год — 2 миллиарда 833 миллиона. 52 процента рынка Англии — русское яйцо! 27 — Германии, 93 процента — Австро-Венгрии. Меня, как специалиста, поразило, что они не только яйцо продавали. Они раздельно продавали желтки и белки! А почему? С 1895 года мы уже тоже продавали раздельно белки и желтки. Сегодня мы говорим: одна из наших важнейших задач — это глубокая переработка яиц. В 1882 году в Курской и Воронежской губерниях были построены первые белково-альбуминные заводы, которые начали переработку яйца. Но у нас, к сожалению, не было пищевой жести, ее закупали во Франции. И вот жидкое яйцо, упакованное в банке по 6 килограммов, шло за рубеж. Туда же продавали и пух, и перо. А также продавалась живая птица, битая и дичь.
PG Кто еще шел на экспорт — гуси, перепела..?
В.Ф. Экспорт водоплавающей птицы был одной из важных статей доходов. Сегодня, наверное, удивительно слышать о том, что гусей не только возили поездами, но и гнали гоном через границу — из Псковской губернии в Польшу и по другим маршрутам. Вначале стелился стальной лист, на него выливали расплавленный вар, который гуси переходили ногами, и таким образом подковывались. После этого, осенью, когда посевы только убирали, их гнали хворостиной — по жнивью, 15-20 км в день. Воду по пути находили, а на полях подбирали остатки посевов. Без подков на лапках могли образоваться мозоли.
PG Каков основной импульс вашей «красной» книги?
В.Ф. Мы очень часто думаем, что это мы все сделали, а на самом деле даже Ньютон признается, что стоял на плечах гигантов. Так и в книге я пишу, что в бестолковой суете мы забываем о людях истории, об их большом вкладе. Надо вспоминать их, потому что память — существенная и важная часть нашего бытия. А мы стали все забывать, у нас ведь даже не очень принято вычерчивать свою родословную — еще помним бабушку, дедушку… А прабабушку? Прадедушку? Многие их и не знают…
Я испытываю потрясение, когда открываю работу 1932 года и читаю: «Обмен витамина С у кур-несушек». Это будущий академик Вальдман тогда уже этим вопросом занимался. Тогда о витамине С не знали столько, как сегодня. К тому же многие исследования прекращались, вспомните 48-й год и Лысенко — «кончайте заниматься этой генетикой!». Вот в нашем институте работал профессор Петров Сергей Гаврилович. У него в 1933 году вышла знаменитая книга «Генетика для птицеводов». Пришли лысенковские времена, и он вынужден был на долгие годы забыть об этом труде, стал работать на кафедре пчеловодства в Тимирязевской академии. А когда я в 71-м году стал директором института, он был членом диссертационного совета, я часто с ним беседовал. Но когда я сегодня открываю его работы, то обнаруживаю те же потрясающие вещи — он тогда ставил по селекции такие вопросы, которые мы только в 70-х годах начали поднимать — и индивидуальная селекция, и создание семейной селекции…
Птицеводство — вовсе не удел фанатиков и чудаков. Константин — родной брат царя, принимал экзамены у птицеводов в своем имении Знаменка под Петергофом. Курсы проходили 9 человек. И кто был в комиссии — князь Урусов, а попечительский совет возглавляла сама императрица. Какие люди! Это значит, что они не были далеки от реальности и вовсе не купались в одной роскоши. Нет, они сами ставили вопросы и понимали, что нужно обучать людей, проводить выставки. И по предложению Елагина — выставлять птицеводство не в конце выставки, а в первых рядах, чтобы люди сразу видели!
PG Оказывается, среди известных ученых-птицеводов был и прямой родственник актера и режиссера Никиты Михалкова?
В.Ф. Да, большой вклад в развитие нашего птицеводства внес Владимир Александрович Михалков — отец Сергея Михалкова, дед Никиты. В 1924 году он уже написал книгу «Как заставить курицу давать хороший доход», предлагая организацию кооперативных промысловых товариществ по птицеводству. Вот хоть бери инструкции и прикладывай к нашей сегодняшней жизни! Почему у нас сегодня половина коров в частной собственности, а товарность молока — всего 18 процентов? Это значит, что 18% молока идет на переработку, но куда девается остальное? В кормушку поросенку. Потому что нет кооперации. А ведь после войны и до — существовали кооперативы, куда каждый человек мог сдать излишки. Не терялась ни одна шкура крупного рогатого скота, ее забирали специальные заготовщики — все шло в производство. Сегодня эти шкуры тысячами на свалки выкидывают. А ведь что только из этого можно было сделать.
К сожалению, Владимиру Александровичу удалось пожить недолго — из-за крупозного воспаления легких он сгорел за три дня. В 1981 году Сергей Михалков обращался ко мне с письмом, в котором написал, что решил пожертвовать ВНИТИП книги отца — «Разведение уток, гусей и индеек» (1930 год), «Яйценоская сухопутная утка индийский бегун» (1928 год), «Руководство промышленному птицеводству» (1931 год) и другие. Все книги В.А.Михалкова с дарственной надписью его сына, поэта Михалкова, хранятся у нас в институте. Именно им была организована первая инкубаторная птицеводческая станция России в Пятигорске. Позднее, в 60-х, мы начали говорить, что необходимо клеточное выращивание бройлеров, клеточное выращивание цыплят (а не напольное). Но у Михалкова уже в 1929 году был батарейный цех, где по клеткам выращивалось 90 тысяч цыплят! Собирая материал для своей книги, я узнал, что первые мысли о том, как сделать промышленный инкубатор, пришли именно ему. Михалков набросал чертежи совместно с инженером Горецким. Позднее Горецкий довел инкубатор «до ума», это стал знаменитый инкубатор-универсал, за который он в 1945 году получил лауреата Сталинской премии.
Не менее удивительно и то, что, поднимая старые журналы 29-30-го годов, я обнаружил бурные дебаты под заголовком: «Вы за хохлатку или за леггорн?». В этих журналах Михалкова критикуют и склоняют на все лады за его высказывание: надо с мелкой непродуктивной русской птицы переходить на леггорн! Мог ли он представить, что через тридцать с лишним лет после его смерти мы только начнем делать то, что он уже предлагал… В 1964 году мы стали завозить первые кроссы леггорнов, а сегодня уже все яичное птицеводство — сплошной леггорн! Надо сказать, что в этой дискуссии находились и люди, которые поддержали Михалкова. Ведь, повторюсь, кроме неприхотливости, русская белая порода кур не отличалась особыми преимуществами.
История демонстрирует, как тяжело нам давался переход на более выгодные и эффективные породы и системы. Даже позиция революционно настроенных ученых, готовых жертвовать своей жизнью, не всегда способствовала осуществлению прорыва. Сравните, в Америке сейчас 9,2 миллиона коров, ровно столько, сколько было у нас два года назад. Но мы получили 31,8 миллиона тонн молока, а они — 86. От того же поголовья! А почему? Потому что они не болтают об инновациях, а делают. Средний удой в США в 2008 году — 9273 килограмма на корову. И это никакой не эксперимент, а реальность, факты. Поэтому можно сказать: давайте восстановим 20 миллионов коров, которые под нож лягут, а можно сказать: примените инновации, повысьте продуктивность. Где нам на эти 20 млн найти деревень и бабушек, которые бы, как в былые времена, вставали в 4 утра, шли на ферму и доили — утром, днем и вечером. Нет этих людей и не будет уже! Нужно создавать семейные фермы, где уже будут роботы помогать, и чтобы жилье было комфортным, тогда люди пойдут в деревню. Нужна мотивация в этом отношении.
PG По вашим словам, в России долгое время один за другим появлялись труды о выращивании цыплят, уходе за птицей, кормах, а выходили ли научные исследования по яйцу?
В.Ф. Очень много работ было о том, как повысить яйценоскость, и второе — описывалось качество, свойство яйца. Я очень хорошо помню послевоенную сибирскую деревню, где мы жили. Куры там не неслись круглый год, потому что они сидели в сарае и переставали нестись, как только наступали холода. Бабушка собирала каждое яйцо и никому не давала, потому что ждали Пасху. На Пасху начинали красить яйца, а мы с пацанами играли в лунки, ходили по деревне, кто у кого разобьет... В 50-е годы больному в больницу несли куриный бульон — это считалось лучшей послеоперационной пищей. То есть все полезные свойства были известны и описаны гораздо раньше.
Я звоню директору института и говорю: хочешь, продам тебе рецепт колбасы с гусиным мясом? Он говорит: да нет такого! — Нет??? Тогда читай! 1886 год, рецепты колбас с включением гусиного жира и мяса. То есть я опять о том же: надо не забывать то, что до нас сделали! А сделано для успеха было уже практически все.
Научный сотрудник ВАСХНИЛ Назарьевский описывал, как было трудно, когда страна еще только становилась, а люди уже начинали думать, чтобы не жить на импортном оборудовании. В его статьях 1932 года: «Техническая база социалистического птицеводства» и «Механизация оборудования птицеводческих хозяйств» — он характеризовал техническую базу птицеводства следующим образом: в 1929-1930 годах мы импортировали из-за границы инкубаторы, брудеры и даже примитивное оборудование. В настоящее время мы имеем свою промышленность, инкубаторо- и брудеростроение, благодаря которым мы полностью избавились от иностранной зависимости в этой области и смогли встать на путь быстрого развертывания птицеводства. К маю 31-го по Союзу насчитывалось инкубаторов различных систем на 23 миллиона яйцемест. В то время как в 30-м году их число составляло всего 4-5 миллионов. Вот темпы!
Для справки, в 1931 году в СССР работало свыше 120 птицесовхозов с общим размером стада в два миллиона голов, 222 инкубаторные птицеводческие станции и до 9 тысяч колхозных птицеферм. В Америке сразу вышли на крупные хозяйства, но не бросали приусадебные. Своими глазами я видел самую крупную ферму, на которой было всего три бройлерника. Сегодня их и восемнадцать, и тридцать шесть на одной площадке у фермера. Потому что более крупное всегда более выгодное. Интеграция и кооперация здесь сыграли свою определяющую роль.
PG Почему у нас так и не сложился класс фермеров?
В.Ф. Дело в том, что на крупных фабриках у нас сегодня производится 90 процентов мяса птицы, и только 10 процентов — у населения. Население отказалось от несушек, мелких инкубаторов, потому что через свои репродукторы мы даем им высокопродуктивную птицу, ту, на которой работает птицефабрика. У населения производится 22% яйца. Мы также продаем им привитых цыплят, и кур, выдержанных на фабрике 12 месяцев продуктивного периода. Раньше их забивали, но сейчас решили продавать населению. В апреле прошлого года в Башкирии продали населению 146 тысяч таких кур-несушек. Семья берет на садовый участок 12 кур, имеет каждый день свежее яйцо, 6-8 штук. Осенью в ноябре их забивают — получают еще и мясо.
Более того, некоторые хозяйства подращивают бройлеров до 7 дней и продают семидневных. Потому что суточных населению сложно вырастить, нужно поддерживать температуру 35 градусов. Но мы констатируем, что с каждым годом количество бройлеров все уменьшается. Уходит старое поколение, а молодежи не нравится этим заниматься, они не привыкли жить в деревнях. Крупные фермы имеются только в гусеводстве и утководстве. В них до 10 тысяч взрослых гусей на ферме — инкубируют и продают населению.
Это очень выгодное дело. В Омск едут из Иркутска, чтобы утят взять! Можете себе представить? То есть тяга у людей есть, надо сделать все, чтобы эту тягу поддержать. Фермеры-гусеводы вообще молодцы, создали свою ассоциацию, свою пухо-перьевую фабрику в Башкирии, шьют одеяла, одежду из пуха и пера водоплавающей птицы. Вот такой подход я поддерживаю — не только промышленное направление, но и частные хозяйства.
PG Владимир Иванович, откройте нам секрет, вы текст пишете от руки или на компьютере набираете?
В.Ф. Я пишу от руки. У меня секретарь сидит, она прекрасно понимает мой почерк. А компьютером не пользуюсь, так как не очень хорошее зрение. Без увеличительного стекла даже смс не могу набрать. Когда мы со Святославом Федоровым были народными депутатами, он заметил, что я щурюсь, определил астигматизм, позвал к себе в центр. Но когда посмотрел, то решил не оперировать. Потому что врожденное нарушение, то, что связано с нервом, — еще неизвестно, как повернется после операции. Федоров говорит: на охоту же ходишь, кабана видишь? Я говорю: вижу. — Ну, на твои сто лет зрения хватит.
PG В кабана попадаете?
В.Ф. Не каждый раз (смеется), но попадаю! Каждый год езжу. На утку тоже. Но ребятам завидую — тем, кто хорошо стреляет. Ребята пока 20 настреляют, я за это время трех уложу — это уже хорошо. У меня дед-кузнец был охотник, он нас выходил в войну тем, что, когда в Сибири жили, в мелководных озерах наловит рыбы, сушит, мы могли и уху есть, а весной икры было невесть сколько… Мне было 3-4 года, мы плывем среди цветущих лилий, вода чистейшая, помню, что бы ни летело, он прицелится и точно убьет. Я — нет, но на природе млею, сижу слушаю, где веточка какая хрустнет. Щелк! Может, зверь идет. Солнца луч выйдет, вокруг такие тени… Думаю: черт побери, почему я не рисую!
Чаще бываю в Смоленской и Ярославской области, за Угличем. Сейчас столько брошенных земель, поля изрыты кабаном. Едешь — деревни брошенные, зверя много развелось, но получаешь удовольствие не столько от мяса, сколько от самого процесса. Приезжаешь — и уже с ног валишься от этих ботфортов, но все равно — в баньку, а потом — в речку, даже если и ледок есть. Дед меня приучил к бане. Помню 1946 год. Баня у нас была в земле, называлась «землянка», и топилась по-черному. В предбаннике все было выстлано соломой. Помню, дед был в рукавицах, как поддаст жару, и я на коленях выползаю оттуда на эту солому. Дома стоял самовар, и после бани они с бабушкой сидели и пили чай. И дедушка, чтобы похвалиться, спрашивает: ну как, внучок, хорошо было? Я: хорошо, дедушка, не жарко! Дедушка: оохх, язви тебя в душу!!! (Смеется.) Такая у него приговорка была.
В этом году я побывал на могиле у деда, ему, как кузнецу, сделали кованую ограду с наковальней и молотом. Хотел в родных местах побывать — это Голубковский совхоз… Приехал, а деревни уже нет, и только две яблони стоят. Вдруг вижу — колодец, русский журавль. Он стоял рядом с дедом, и там — кузнечная петля, доставать воду. А на ней — дедушкино клеймо. По мне как ток пробежал…
PG Ваша книга «Люди и птицы» — тоже своеобразная встреча с родиной, историей, предками?..
В.Ф. Да, я еще раз убедился, что нам надо писать о людях, создавать энциклопедию в каждой отрасли — по молочному животноводству, по мясному, по коневодству… Там же такая богатая история, где мы найдем и графа Орлова, и уникальные фотографии. Может получиться даже 3-, 4-томник, но надо начинать! Тем более, насколько мне известно, когда мы издали книгу по генофонду кур — она вмиг разошлась. В книге я показал, как начиналась ветеринарная служба в птицеводстве, и люди глаза открыли: мы этого не знали! А не знали потому, что мы не занимаемся историей и методологией зоотехнии. Но без этого невозможно рассматривать ни одну отрасль. Материалы по каждой отрасли должны быть собраны и систематизированы. И нравится кому-то или не нравится, что между академиком Серебровским и Ивановым была схватка, — людей уже нет, а нам надо знать, почему был конфликт и кто оказался прав. Это все история нашей науки.
Автор:
Дарья Хренова
Источник:
Биомедиа.рф