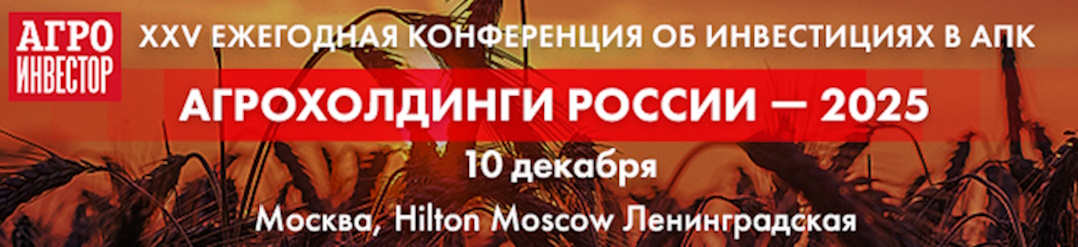|

«Желания продать подороже недостаточно». Генеральный директор агропромышленного холдинга «Мираторг» Александр Никитин
В последние полгода только ленивый не поднимал тему сельского хозяйства и роста цен на основные продукты питания. Беспрецедентная засуха, пропажа гречки с прилавков, рост цен на пшеницу и закрытие границ для ее экспорта. Сельхозпроизводители жалуются, что находятся на грани выживания, власти хотели бы сдержать рост цен. А впереди еще неизвестно какие сюрпризы может преподнести новое лето. На фоне общих панических настроений монументальным спокойствием отличается один из крупнейших агрохолдингов страны – «Мираторг». Вице-президент компании Александр Никитин рассказал в интервью Slon.ru, отчего не стоит ждать серьезного роста цен на продукты и в чем на самом деле состоят проблемы российского агросектора.
– Несколько дней назад в своем мониторинге цен на основные продукты питания мы отметили довольно серьезный рост цен на свинину и говядину, хотя до сих пор большинство экспертов уверяли, что эти продукты практически не дорожают. А что вы скажете по этому поводу?
 – Если говорить только о ценах на мясо, то они определяются скорее рынком, в зависимости от спроса и предложения. И я лично не могу сказать, что они растут в оптовом звене. Там они даже снижались в последние недели. Хотя все зависит от вида мяса. На птицу цены в опте сейчас падают, и причиной тому сезонный фактор и продолжающийся рост внутреннего производства. Но если серьезно взглянуть на проблемы – в большом числе маленьких населенных пунктов, а то и в областных городах качественной охлажденной птицы нет. Товаропроводящая сеть отстает в развитии от производства.
– Если говорить только о ценах на мясо, то они определяются скорее рынком, в зависимости от спроса и предложения. И я лично не могу сказать, что они растут в оптовом звене. Там они даже снижались в последние недели. Хотя все зависит от вида мяса. На птицу цены в опте сейчас падают, и причиной тому сезонный фактор и продолжающийся рост внутреннего производства. Но если серьезно взглянуть на проблемы – в большом числе маленьких населенных пунктов, а то и в областных городах качественной охлажденной птицы нет. Товаропроводящая сеть отстает в развитии от производства.
Теперь о свинине. В летние месяцы прошлого года росли цены на зерно и корма, повысился падеж и снизилась осеменяемость. Как следствие, в феврале–марте действительно подорожали живые свиньи на убой. Но с тех пор цена зафиксировалась, и нового роста больше не происходило. Вообще же цены на свинину в течение всего этого времени носили синусоидальный характер, и однозначно нельзя сказать, выросли они в течение полугода или упали. В целом же 2010 год отличался нетрадиционной стабильностью цен на свинину и отсутствием резких колебаний.
Наконец, есть еще третий вид мяса с отдельным ценообразованием – говядина. Ее у нас пока производится мало, она является своего рода шлейфом от молочного производства, и на рынке многое определяет импорт. Так что в этом случае на ценообразование в России влияет мировая конъюнктура. Сейчас говядина в мире дорожает: на нее растет спрос, да и в основных странах производителях, к примеру, в Бразилии, ее стали больше потреблять. Так что за последний год в мире цены на нее поднялись на 30–50%. Это довольно ощутимо.
– Хорошо, но как за этот период изменились отпускные цены в «Мираторге», ведь если не ошибаюсь, вы являетесь крупнейшим производителем свинины в стране?
– Я не раз уже говорил, что в случае с производителями мяса рост себестоимости не означает пропорционального повышения отпускных цен. В нашем случае эти два процесса не связаны друг с другом. Цены скорее зависят от сезона. К примеру, сейчас закончится пост, и начнутся майские праздники, люди начнут выезжать за город, и сразу же поднимутся цены на шейку, лопатку и окорок. В пост, кстати, потребление мяса действительно сокращается, примерно на 10–15%. Кроме того, мясо обычно дешевеет осенью. Это потому, что начинается убой скота в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ): когда весной крестьяне берут поросенка или теленка, летом его откармливают, а осенью уже забивают. Опять же мы зависим еще и от мировых рынков, от того, когда откроют или закроют границы, и, наконец, от эпидемий. То есть одного желания продать подороже явно недостаточно: цена зависит от многих факторов, в первую очередь от спроса и предложения на рынке мяса. Чем больше объём производства, тем ниже цена, поэтому скорее проще заработать за счет объемов продаж, нежели чем за счет высокой цены на продукцию.
– А рынок – это розничные сети? И как сейчас работается с ними, после запрета почти всех бонусов?
– Скажем, с принятием закона о торговле стало, безусловно, легче. Главным достижением на сегодняшний день можно считать реальное сокращение сроков оплаты товаров с короткими сроками хранения, в том числе мяса. Ну и упрощение бухгалтерии. Система ретробонусов и листинга себя изжила. Хотя в итоге с отменой бонусов наша маржинальная доходность не изменилась. Скажем, хотели мы продать раньше что-то по 100 рублей – сеть нам предлагала оплату бонусов еще на 20 рублей, но это в свою очередь вынуждало нас продавать сети товар уже по 120 рублей (а то и выше с учетом налогов), чтобы сократить ненужные издержки. В итоге получались искаженные данные: производители плохие потому что продают товар по 120 рублей, а сеть вроде как работает с минимальной маржой, поскольку ставит на полку товар за 130 рублей. А потом эти 20 рублей сеть получает от нас, только этого уже не видно. Основной задачей отмены бонусов было не желание уменьшить их маржинальность (сетям тоже надо развиваться, и нам это выгодно, так как сети – важный и пока неразвитый в России цивилизованный канал сбыта), а обеспечить прозрачное ценообразование и упростить взаимоотношения. Их реальная наценка должна быть прозрачной. Хотят они покупать за 100 рублей, а потом продавать за 200, и пусть. Раз они так делают, значит это им позволяет конкуренция, розничный формат, главное, чтобы это было видно.
Сейчас торговле оставили один бонус – максимально до 10% от объема продаж. А в сетях этот бонус превратился в обязательный, а не в зависимости от объема поставки – розница начисляет его автоматически, вне зависимости от того привезли вы одну коробку или целую фуру товара. Понятно, что договор – дело добровольное, но мне кажется, что заставляя поставлять товар по заведомо нереально низкой цене, сети толкают производителя на снижение качества. Да и развиваться производителям будет гораздо сложнее, а значит, сложнее расширять ассортимент и повышать спрос. В развитых странах сети и производители все больше становятся партнерами, помогают друг другу находить новые модели и пути развития, совместно придумывают как удовлетворить меняющиеся потребительские предпочтения. Но это требует смены всей философии этого бизнеса со стороны поставщиков и владельцев сетей.
– У меня еще один вопрос о ценах. Часто приходится слышать, что стоимость основных продуктов в России выше, чем, к примеру, в довольно благополучной Европе. Сейчас, когда цены на продукты растут, а доходы нет, эта тема стала особенно актуальной. На ваш взгляд, насколько справедливы подобные утверждения?
– Я могу говорить о мясе. Если говорить о ценах на полках магазинов, то они находятся примерно на том же уровне, что в Европе или США. Вместе с тем, необходимо отметить, что в Европе явно выше конкуренция, как среди производителей, так и среди розничных сетей.
С развитием производства у нас будут снижаться и себестоимость, и розничные цены. А пока предприятия в России все еще достаточно затратны в плане технологий. На цены влияет состояние инфраструктуры поставок, а она у нас в зачаточном состоянии. Свою роль играют такие аспекты, как пробки, скорость доставки и состояние дорог. На дорогах полицейские постоянно останавливают для проверки большегрузный транспорт, а каждая минута – дополнительные копейки и рубли к цене. Поставщики все это должны учитывать.
– И еще о потребительских стереотипах. Ведь часто приходится сталкиваться с довольно негативным отношением к товарам от крупных агропроизводителей, дескать, химия в кормах, обработка мяса сомнительная и прочее...
– На самом деле именно произведенное промышленным способом мясо и заслуживает доверия. Есть современные комбикормовые заводы, в кормах зерновая основа, соевый шрот, какие-то минералы и витамины. Это в ЛПХ как раз кормят непонятно чем. Точнее, даже понятно – помоями. Неизвестно, как это животное забивали, чем оно болело, никто не охлаждает разделанное мясо по технологии. Потом в багажнике машины его привезут на рынок и выложат на открытый прилавок с мухами. Это стереотипы нашего потребителя перевернуты на 180 градусов. Да и в подходе к открытым рынкам и сетям действуют какие-то двойные стандарты. На рынке можно продавать мясо без холодильного прилавка, а в сетях – нет. И отчего у нас в подсобном хозяйстве может содержаться и 50, и 100 голов скота? И почему никого не волнует, как утилизируются отходы от такого количества животных? Нет же никаких регламентов. Когда мы сталкиваемся со случаями возникновения эпидемии африканской чумы, – мы отчего-то не задаемся вопросом, что это прямое следствие того хаоса, который творится в ЛПХ. Надо же в конце концов выбирать одно из двух: либо мы консервируем средневековье, либо строим современное промышленное сельское хозяйство, в том числе и в мелкотоварном производстве.
– Кстати, о более близких перспективах нашего сельского хозяйства. Сейчас ведутся споры относительно того, как распределять зерно из интервенционного фонда. В «Мираторге» тоже рассчитывают получить что-то от этого распределения?
– Потребность «Мираторга» в зерне, прежде всего в рамках производства свинины достаточно велика. С другой стороны, мы запаслись зерном заранее, поэтому попасть в число получателей государственного зерна для нас желательно, но некритично. Тем более, что сейчас рынок несколько стабилизировался, и цены на зерно начали снижаться. Не только в связи с ожиданиями распределения интервенционного фонда.Я думаю, что и запасы зерна были несколько занижены. Я так понимаю, что до нового урожая зерна хватит, и агрокомпании просто перестали придерживать остатки. Полагаю, что сейчас можно ожидать сброса зерна на рынок. Но это еще только предположение. Во всяком случае, на рынке уже третью неделю цены постепенно снижаются.
– Недавно Андрей Даниленко, глава ассоциации «Союзмолоко», говорил, что, наоборот, нынешнее снижение цен на зерно плохо, особенно в связи с предстоящей посевной. Да и снижение это вызвано не рыночными механизмами, а тем, что игроки замерли в ожидании распределения зерна из интервенционного фонда...
– В этом тоже есть своя логика. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше. Часть зерна пошла на биржу, часть решили распределить между пострадавшими от засухи регионами. Мы не против поучаствовать, но как получится, так и получится.
– А как вы полагаете, государство вообще способно повлиять как-то на рост цен, сдержать их?
– Основной инструмент влияния – это всестороннее и последовательное развитие собственного эффективного производства, конкуренции на всех этапах производства, переработки и реализации. Стимулирование повышения производственных показателей, а не объема производства, изменение системы субсидирования и иных форм поддержки для получения максимального эффекта от каждого затраченного бюджетного рубля. К сожалению, уже не один год бюджет вливает деньги в потенциальных и реальных банкротов. Зачем?
Влияние государства на цены не должно быть спорадическим или сиюминутным. Создаем сильную базу профессиональных кадров – значит, в перспективе снизим цену на 1 рубль. Снизили зависимость от импорта – меньше будем реагировать на внешние события на рынках. Повысили уровень госслужащих – вот вам еще рубль в минус. Проанализировали обоснованность повышения тарифов, поняли, что если там будут меньше воровать, то их и повышать не надо, – вот вам еще цена вниз. Не надо искать быстрых решений. Нужно идти по пути долгосрочной стратегии, понимания грядущих вызовов и места России на мировом продовольственном рынке.
Лично я не верю, что есть какие-то другие действенные инструменты влияния кроме рынка и конкуренции.
– Может, дать команду губернаторам...
– Такие подходы точно убьют инвестиционный климат. Если я вижу незаполненную нишу на рынке, вкладываю деньги и рискую, работаю по 16 часов в сутки, не являюсь монополистом, то почему кто-то должен за меня определять мою прибыль, не зная моих расходов и планов? Я ведь могу зарабатывать для расширения производства, а это всем выгодно. Кредиты банкам за меня тоже никто не будет отдавать. Ну и потом есть вопрос бюджетных доходов и расходов. Если я зарабатываю и плачу налоги, то в компетенции государства оказывать целевую поддержку нуждающимся.
Можно попытаться зафиксировать цены по цепочке поставок, можно регулировать розницу, но ведь она же должна что-то зарабатывать, чтобы существовать. Иначе вообще все можно разрушить.
– А что бы вы сказали тогда о прогнозах инфляции на этот год? Минэкономразвития дает оптимистичный вариант в 6,5%, другие чиновники сходятся на показателях чуть более 8%.
– Трудно сейчас что-либо прогнозировать. Но показатель в 8% на мой взгляд выглядит реалистичным. Урожай может быть вполне нормальным. Озимые, несмотря на разговоры о снижении их площади, посеяны в достаточном количестве.
– Редкий оптимизм... А вот, возвращаясь к ценообразованию, расскажите о наценках на мясо по всему звену поставки, – от производителя до розницы. Насколько они велики и у кого заложена самая большая накрутка?
– Нельзя забывать, что все российские агропроизводители сейчас находятся в инвестиционной фазе. У всех кредиты, у всех не самортизированные предприятия. Отсюда понятно, отчего все просят у государства субсидий. А дальше тоже все довольно просто и зависит от аппетитов конкретной розничной сети. Но двукратных накруток нет, скорее, они в пределах 30–50%. Возникали предложения о том, что надо ударить по рукам посредников с их накрутками. Но объективно – сейчас никаких таких посредников-перекупщиков со сверхприбылями. Это же не девяностые годы. Нынешний дистрибьютор по сути занимается логистикой: дроблением партий, развозом, упаковкой и так далее. Это серьезная работа, особенно в нашей стране, где логистика и транспорт плохо развиты. И вырастить курицу порой гораздо проще, нежели довезти ее разделанной до прилавка.
Иногда послушаешь некоторых наших производителей, как они отчитываются об итогах, так будто они рапортуют о выплавке чугуна родной партии. Дескать, в прошлом году мы добавили 300 000 тонн мяса, и все! Курица еще в перьях и бегает, а ее уже посчитали. А как это разделано, упаковано, доставлено и речи не идет. А именно это сейчас как раз и важно.
Наша мясная отрасль крайне неоднородна как по размеру предприятий, так и по их управлению и эффективности. В откорме свиней и крупного рогатого скота на долю хозяйств населения приходится 45% и более 60% соответственно. Какая у них себестоимость, какая рентабельность откорма? В свиноводстве есть предприятия, по эффективности и себестоимости откорма не уступающие не только средним европейским или американским фермерам, но и лидерам производства. А есть те, у кого убытки были даже в 2009-м г. на фоне прекрасной конъюнктуры. Даже подход для определения экономически оправданной себестоимости до сих пор не выработан. Недавно один крупный холдинг показал чистую прибыль около 3 млрд руб., а другое предприятие, тоже немаленькое по размерам, только 1,5 миллиона рублей. Как это получается?
В целом рентабельность откорма свиней и производства мяса птицы была привлекательной для инвестиций. Недаром банки продолжали кредитовать эти отрасли даже в кризис. Да и сейчас анонсируются большие проекты. Вообще для развития этих направлений необходимо на первом этапе обеспечить высокую доходность вложений, иначе зачем идти в такой сложный бизнес. А вот потом конкуренция будет снижать маржу, и в отрасли будут происходить серьезные структурные изменения, слияния, банкротства. В результате останутся в основном наиболее профессиональные компании или фермеры. Именно это и надо стране, а не эфемерный валовый объем неконкурентоспособного производства.
– Недавно «Мираторг» опубликовал свои показатели за 2010 г., и они, надо отметить, впечатляют как ростом выручки, так и рентабельностью, EBITDA почти в 18%. Откуда такое, если вторая половина прошлого года пришлась на засуху и ее последствия, и все аграрии жаловались на это?
– А зачем жаловаться? Многие их тех, кто жалуются, потом публикуют отчетность, и оказывается, что цифры в ней очень даже ничего. Получается, что для инвесторов есть хорошие цифры в отчетности, а для регуляторов и кулуарных разговоров можно и поплакаться?!
– А Лисовский почему решил все же продать свой «Моссельпром»? С курицей больше неинтересно на нашем рынке работать, потому что ее уже в избытке и она дешевеет?
– Скорее всего, для Лисовского это изначально был венчурный проект – тогда его выход вполне логичен, равно как и логично приобретение этого актива «Черкизово». Они так всегда развивались. Я бы не сказал, что у нас перепроизводство птицы сейчас, к тому же сокращается импорт, квоты. Поэтому все будет сбалансировано.
Источник: http://slon.ru/articles/575708/?sphrase_id=288131